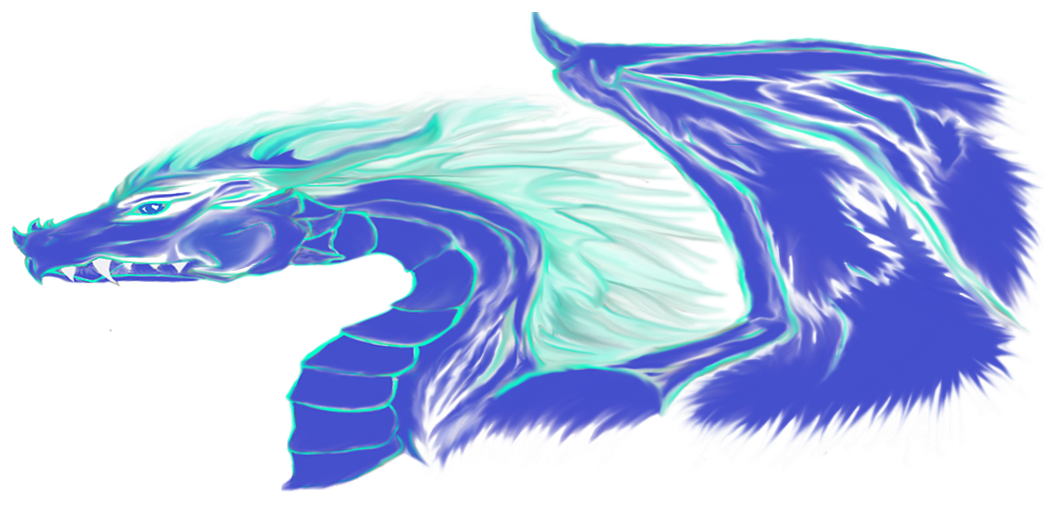2020-е годы
Чисто поле и черны вороны
Я зашла в подворотню возле офиса, и мне навстречу полетели птицы. Я растерялась от неожиданности, но в этом был и восторг. Каждый день я хожу этим путем, и вдруг такое – ткань реальности разошлась по швам. Не знаю, кто это – скворцы, дрозды, я в них совсем не разбираюсь. Поменьше голубей будут, черноватые. Разглядеть их я не успела. Успела словить тот вихрь, тот порыв, с которым они пронеслись. Что-то чудесное.
Не так давно у меня была символдраматическая сессия, и в ней ко мне прилетели вороны. После этого я почувствовала, как далеко я от своих корней. И одновременно – как близко.
Я с Дона. Там жили казаки. Я плохо их знаю. У меня не сложился контакт. Я знаю только своего отца и нескольких родственников.
И ещё я знаю себя. Где-то внутри вечно бешеная скачка, пока не встретишь пулю. И этот сакральный момент – взгляд с земли в небеса. Там слетелись уже они, кружатся над тобой, поджидая смерть.
Чисто поле и чёрны вороны.
Два архетипа, на которых держится донской мир. И хоть иногда это страшно, мой внутренний тоже.
Есть ещё те, кого мы любим. О ком в разлуке приходится плакать.
Пока не случилась разлука, больше не о чем грустить.
Как становятся психотерапевтами
Большой двор. Летние сумерки. Деревянные лавки, повернутые друг к другу. Женщины всех возрастов. Сидят плотно, соприкасаясь вспотевшими после дневной работы телами. Босыми ногами с наслаждением елозят песок.
В песке, между лавок, возимся мы, малышки лет пяти-шести. Внучки, дочки, племянницы.
Пацанов нет, строгач. Носятся с воплями на другой стороне двора. Мужики тоже на отдалении. Собираются на ночную рыбалку или накатывают себе после трудового дня, спуская пары.
Женское место. Обособление. Границы. Заглубление.
Наконец, кто-то зачинает. Звучит первая история. Слушание. Обратная связь. Сначала выговаривают легкое, потом, что похлеще. Интервенции набирают силу. Скорость, уплотнение.
Вся дневная жесть перемалывается лузганьем семечек. Выступают слезы, оттираются фартуком.
Темнеет. Под ногами – ковер из семечковой шелухи. За ночь его растащат муравьи, и к утру ничего не останется. С Дона тянет ночной прохладой.
Жмутся плечами, но расходиться рано. Поэтому не встают с места, кутаются вдвоем в одну кофту, у кого есть. Постепенно стихают. Паузы длиннее, но все еще не пора.
Молчание. Интеграция. Сигнал к завершению. Комары сожрали. Теперь все.
У каждого психотерапевта было детство. И в нем полно таких историй.
Жизнь
Каждому человеку знакомо щемящее чувство жалости, возникающее в самый неподходящий момент. Что-то внезапно попадает в поле зрения и застает врасплох. Рука старушки, стирающая со щеки слезу. Пушистая шкурка сбитого на дороге котенка. Глаза ребенка, подвергшегося насилию.
Это чувство может сжать сердце с такой силой, что нам не продохнуть. Мы боимся разрыдаться и ускоряем шаг, чтобы увиденная картина осталась позади. Но она не уходит. Она преследует воображение, встает перед глазами, заставляя снова и снова переживать мучительное сожаление. Мы ищем способ это прекратить. Может, обвинить себя посильнее? Почему я не остановился? Почему не дал старушке денег? Не спросил, чем помочь? Почему не отнес котенка в сторону от дороги? Вдруг он был еще жив? Почему не вмешался в агрессию родителя? Надо было объяснить, что он наносит ребенку травму, обзывая его скотиной.
Потом наступает бессилие. Мы понимаем: то, что произошло, невозможно изменить. Никак и ничем. Мы засвидетельствовали страдание другого человека. Другого живого существа. И полученное впечатление оказалось слишком сильным.
Психология предлагает в этом месте поискать, что затронуто, в себе. Куда это попало. Подумав, мы можем вспомнить, как в детстве нагрубили бабушке, и она тихо плакала на кухне. Как впервые потеряли любимого питомца. Вспомнить, как на тебя орали «скотина», – обычно вообще не вопрос, у людей моего поколения уж точно. Найденное воспоминание поможет разблокировать чувства, и наконец, те слезы, которые мы зачем-то сдерживали, польются освобождающим потоком. Психология предлагает хороший путь.
Но есть и другой. Прожить это так, как есть. Прожить – означает, что переживание, с которым мы столкнулись, становится частью нас самих. Оно входит в личность и совершает в ней необратимые изменения.
Чувство жалости к страдающему существу, в котором мы видим себя, мы называем состраданием. Это затасканное слово, как и многие другие хорошие слова. Но слово – не форма, слово – смысл, а смысл таких слов опошлить нельзя. Ему можно открыть свое сердце. И увидеть, что это не первое свидание, а встреча старых друзей.
Этот текст я написала 9 мая, заканчивая им антикризисный цикл статей. Самое ценное – жизнь. Есть ли способ узнать об этом, не пережив боль другого, как свою?
Мой ласковый и нежный зверь
Всегда мне хотелось, чтобы именно этот фильм был экранизацией «Легкого дыхания». Та же Оля, смесь пошлости с божественным, и убийство от ревности – не на вокзале только, а в лесу, но какая разница. И тонкие, почти неуловимые ноты, делающие общее звучание фильма больше бунинским, чем чеховским, на мой вкус. В «Легком дыхании» загадка жизни, оставленная Олей, не дает покоя классной даме, становится ее невыразимым стремлением. Людям, живущим по законам жизненной прозы, нужно оттолкнуться от чего-то, чтобы взлететь к собственным мечтам. «Мой ласковый и нежный зверь» оставил свою загадку, вальс, известный больше, чем сам фильм.
Мне нравятся его ничем не подтвержденные титулы – лучший киновальс всех времен и народов, главный музыкальный шедевр 20-го века, хоть Юнеско их и не присуждало. Но сложно представить себе человека, у которого не щемит внутри при этих звуках. Однажды мне попалась статья о том, что бывают такие музыкальные темы, которые нравятся абсолютно всем, они называются «сквозные мелодии. Они цепляют, не будучи гениальными, не обладая достоинствами, понятными профессионалам. «Цепляют за живое», есть такое интересное выражение. Главная фишка вальса Доги – что он дает человеку возможность почувствовать себя живым, причем в любых обстоятельствах. Быть живым, правда, не всегда уместно, поэтому иной раз приходится хватать неожиданно выпрыгнувшее сердце и запихивать его назад, за грудную клетку, чтобы ни одной слезинкой себя не выдало.
Что-то начинается вместе с этой музыкой, в фильме, в душе, сначала медленно, потом смелее, потом неудержимо... И Оля плачет, и смеется, и не может остановиться. Мы знаем, чем всё закончится, не только в фильме, но и про самих себя. Даже очарованные чьим-то дыханием, его легкость мы не найдем, уткнувшись в могильную плиту с чужим именем. Искать ее дальше в облачном небе или решиться на собственный танец, состоящий из смеха и слез?
Снимая фильм, режиссер Эмиль Лотяну собирался назвать его «Клетка», но к концу съемок он, влюбившись в актрису, игравшую Оленьку, резко изменил название на «Мой ласковый и нежный зверь». Вот интересно, кого он имел в виду? Почему-то я не думаю, что героя Янковского.
Терапия
Я верю, что жизнь – это наивысшая ценность.
Наблюдая за людьми, я вижу, что любую жизнь можно прожить счастливо.
Я уверена, что имея или не имея что бы то ни было, можно чувствовать себя довольным и радостным.
Я знаю, что любовь существует.
Я тоскую от того, что смерть неизбежна.
Довольно часто на консультациях клиенты дискутируют со мной на отвлеченные темы, в частности, есть ли смысл в терапии, и о том, что считать ее результатами. Долгое время я раздумывала о цели этих бесед. Стоит ли за этим потребность избавиться от сомнений, опереться на что-то безусловное, возможно, найти эту определенность в терапевте? Однозначного ответа я не нашла, но осознала нечто интересное – собственную систему ценностей, сформулированную этими пятью предложениями.
Когда-то давно мне негласно запрещалось иметь собственное мнение о жизни. Якобы, взрослые знают лучше. «Ничего-ничего, жизнь тебе еще покажет!..» Полагаю, каждый человек со сложным детством имеет свой набор уничтожающих посланий.
Есть идея, что за этим стоит особая форма любви, мол, будучи сами травмированы, родители могли выразить ее только так. Я не могу с этим согласиться, поскольку у меня возникает вопрос: где та грань, за которой травма становится необратимой, приводя к извращенным формам поведения, которые уже не подлежат трансформации назад в любовь? И нужно ли искать смысл в том, что попросту вредно для жизни?
Что касается меня, то я давно не боюсь открыто выражать свое мнение, даже если оно спорно. Это если о результатах терапии.
Притяжение
Самой страшной русской сказкой я считаю «Черную курицу», но в западной литературе есть еще похожая – «Мальчик-звезда» Оскара Уайльда.
Как же я боялась и не любила читать ее в детстве! Но это была странная нелюбовь. Потому что во всех прочих случаях, когда мне не нравилась книжка, я ее никогда не перечитывала. А тут… Словно какое-то колдовство понуждало раз за разом открывать сборник на той самой странице. Я прекрасно знала, чем закончится, – будет плохо, муторно и тошно – но не могла справиться с собой, как одурманенный зельем наркоман, не могущий не отдаться зависимости. Это было еще и тайное чтение, скрываемое от себя самой, будто бы я случайно, невзначай опять на нее наткнулась, как-то само так вышло…
Сейчас природа этих чувств мне более понятна, хотя все равно не до конца. Дело в том, что в этой книге, так же как в «Черной Курице», очень много стыда. Стыд разлит по ней скользким маслом, на котором невозможно не поскользнуться, и поскользнувшись, ты неизбежно падаешь, утопая целиком. Для ребенка переживать стыд – одно из самых мучительных состояний, поэтому чрезвычайно сильно стремление избежать с ним контакта, уйти в психологическую защиту. Но Оскар Уайльд не оставил мне выбора. Собственно, он да Антоний Погорельский оказались лучшими терапевтами, лечившими мою нарциссическую травму.
Сам механизм прекрасно описан Шварц-Салантом («Нарциссизм и трансформация личности»). Через стыд, через кажимость внутреннего распада, нарциссическая личность движется в глубины Самости, чтобы там отразиться в любящих глазах. В буддизме есть такой бодхисаттва – Любящие Глаза – тоже, наверное, терапевт нарциссических травм. Это отражение приносит невыносимую боль, страх и ярость, но вслед за ними рождается право быть. Найти себя, истинное я, внутренний центр, свой стержень, подлинное бытие, быть настоящим, просто быть – все эти слова об одном.
Там, на глубине, мы встречаемся с архетипами. Я хорошо помню свое восприятие сцены, где Мальчик-звезда находит родителей, ожидая от них смерти, даже стремясь к ней, настолько мучительна грызущая его вина. Они выглядят как прокаженный и нищенка, но на самом деле они – боги. Как и положено богам, они безмолвствуют, пока Мальчик-звезда несет им свою мольбу, маленький и ничтожный, распластанный возле их ног. Наконец, на него нисходят звуки, они звучат как будто с большого расстояния, с высоты, грозные, громкие, глас богов:
«И нищенка положила руку на его голову и сказала:
– Встань!
И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал:
– Встань!
И он встал с колен и посмотрел. Перед ним были король и королева».
Так я впервые встретилась с бездной. Потом в моей жизни было много подобных встреч, но каждый раз, заглядывая в бездну, я узнавала ее по этим переживаниям, когда отвращение и ужас смешаны с влечением и надеждой. Благодаря Мальчику-звезде я знала, что нужно просто оставаться с тем, что есть, молясь и плача, пока бездна не начнет вглядываться в тебя. Ведь ее взгляд – только Любящие Глаза.
Путь начинается с приема вещества.
Поезд, уносящий Веничку от любимой девушки, белая карета, не доехавшая к человеку с кошкой, заблудившийся трамвай, не нашедший Машеньку, – нет у русского человека такого транспорта, который доставил бы бессмертную душу в рай.
Исходная ситуация в песнях Федора Чистякова и поэме «Москва-Петушки» тождественна – жесткая, нечувствительная к душевной жизни героя среда, в которой «зарубает время от времени». В этой среде герою нет места, он ей чужд, и потому обречен на путь. Но одной только исходной ситуации недостаточно. Путь начинается с приема вещества. Улица Ленина освещается огнями индейских костров, а электричка въезжает в мифологическое пространство. И никакого четвертого измерения, все в голове.
Благословленный мантрой «И немедленно выпил», герой движется к своим отщепленным душевным аспектам, в попытке восстановить собственную целостность. Но тем временем поезд поворачивает прочь от Петушков, а человек с кошкой входит в делирий.
У Венички и дяди Федора много общего с их героями. Где тот неуловимый миг, стирающий грань между личностью и веществом, биографией и творчеством? Шило вонзится в Веничкину шею, и писатель Ерофеев умрет от рака горла. Доктор приедет, и лидер группы «Ноль» станет пациентом психиатрической больницы. Да еще и судьба любит хохотнуть над героем – вдруг ангелы небесные, бросившие Веничку, хвать, и унесут на своих белоснежных крыльях дядю Федора. Будет теперь новый свидетель Иеговы, живой, но правильный. А человека с кошкой – нет, больше не будет.
Вопросы воли-безволия и морали-нравственности дело десятое, когда заходит речь о зависимости. Самый тревожный вопрос, to be or not to be русской культуры: как, отказавшись от зависимости, не утратить путь?
Понятно, что на такие вопросы готовых ответов не полагается, одни подсказки да намеки. Вот, например. Сохраняя верность зависимости, писатель Ерофеев больше не напишет ничего равного «Москве-Петушкам». Через несколько лет после отречения, музыкант Чистяков сыграет-таки «Человека и кошку». И сочинит музыку к мультику «Простоквашино» (опять ангелы хохотнули?).
Дальнейшее – молчанье.
2010-е годы
Выпускной
Мой выпускной пришелся на дремучие девяностые, и прошел он у меня же на хате, с распитием «Монастырской избы» и последующими поисками по району ушедших в туман, уже бывших, одноклассников. Найти их не удалось, но они сами вернулись с неожиданной находкой - обнаружили на улице моих родителей, которые вместо того, чтобы спокойно ночевать у родственников, как мы с ними договаривались, сиротливо жались у соседней парадной, ожидая, когда деточки разойдутся и можно будет домой. Вот такая была мне от них инициация во взрослую жизнь. Я пережила одновременно предательство (оказалось, что они и не собирались ехать к родственникам, а просто сказали так, чтобы я от них отстала) и облегчение – ведь они не выразили ни малейшего недовольства, только отметили, что сильно хотят спать. Именно благодаря этому эпизоду я поняла, что родители сами отвечают за свою жизнь. Я не знаю, почему они решили так поступить. Может, не хотели беспокоить родственников, может, в глубине души, были не против погулять белой ночью вдвоем, может, заняли позицию жертвы. Они не стали мне объяснять. Они просто дали понять, что это был их выбор, и причины, по которым они его сделали, меня не касаются. Одноклассники начали быстро собираться, смотря на меня укоризненно. Возможно, они не понимали, как можно быть такой спокойной и не испытывать вину.
Тогда, в эту ночь, точнее, в это утро, я почувствовала себя абсолютно бессовестной и свободной, что я больше никому ничего не должна, но и для меня больше никто ничего делать не будет. Эта ночь, проведенная моими родителями под окнами собственного дома, была их последним совместным подарком мне. У них не было денег, на которые они могли бы купить мне платье, и не было слов, которые они могли бы мне сказать в торжественной обстановке. Да и вокруг не было той реальности, в которой платье и торжественные слова были бы уместны. Но я их все равно услышала, в своем сердце, много лет спустя. И это те же самые слова, что звучат сейчас, когда я любуюсь своей дочерью на вручении аттестатов: «Делай, что хочешь. Мы всегда за твоей спиной».
Постапокалиптический Новый год
Была такая мечта на этот Новый год – огромная елка, под самый потолок, в центре пустой комнаты большой квартиры. И ходить, бегать, танцевать, беситься вокруг нее, а не рядом, как обычно, когда елка придвинута к стене.
Но задул кармический ветер, спутал все карты, разрушил наивные человечьи планы и занес нас всех в съемную малюсенькую однушку на краю города. Поэтому возникла другая идея.
За свои 35 лет я ни разу не была новогодней ночью в центре города, даже как-то странно. Семья откликнулась с восторгом, как, в общем-то, и на все мои предложения. Мы посидели с бабушкой за праздничным столом, съели все, что поместилось в желудках, и в девять вечера, как следует, утеплившись, загрузились в машину.
«Время года зима…» «Ночные снайперы» были выбраны как самый новогодний из трех имевшихся в машине дисков. «Агата Кристи» и «Аукцыон» не имели в себе даже лирического надрыва. Но это мы еще не знали, что нас ждет в центре.
Настроение, которое несла эта ночь, не было ни веселым, ни радостным. Сначала мы долго шли по Стрелке в толпе чужестранцев и незнакомой языковой среде. На Невском стали изредка попадаться северные лица и русская речь. Вообще, толпа, прущая куда-то по темным улицам, зрелище впечатляющее. И ведь у каждого, кто ее образует, как и у нас, есть какие-то причины, обстоятельства, из-за которых он сейчас здесь, а не дома у телевизора. С каждым шагом в этом ночном шествии, за улыбками и свистом, все сильнее проявлялось ощущение бесприютности, неприкаянности, бездомности – не в смысле отсутствия жилища, а в смысле оторванности от изначального целого, частью которого все мы еще недавно были. Целое сидело там, за окнами домов и ресторанов, в тепле и уюте, с бокалами шампанского, икрой и мандаринами. Наверное, как раз из этой бесприютности рождаются революции. В ней есть сила – настоящая, живая, темная, как окружающая ночь.
Было много всего. Повздорили, потом решили оставить ссоры в уходящем году, натерли пальцы атлантам. Пили горячий чай из термоса на набережной. Вместе с окружающей толпой выясняли, наступил или еще не наступил, наконец, дружно решили, что наступил, и орали «Ура!». Новый год без речи президента. На фасаде Биржы лазерного деда Мороза преследуют скелеты и крэзанутые адские монстры. Залпы фейерверка. Дети с горящими глазами, обалдевшие от звуков, сверкания, зимнего воздуха и разноцветия огней. Небесный фонарик не запустился из-за сильного ветра, экология была спасена.
Это была абсолютно трушная жизнь, без ожиданий и ритуалов. Стал понятен абсурд, мерцающий во всем происходящим, как гирлянды в ночной темноте. Просто на время все перестали париться тем, что такое хорошо и что такое плохо. Апокалипсис закончился. Мы выжили и поняли, что только жизнь имеет значение, а следовать за рутиной не обязательно.
Наутро, в первый день 2012-го, я говорю:
– Может, посмотрим какой-нибудь добрый старый фильм, например…
– «Сайлент Хилл»!!!
– Вообще-то, я хотела сказать «Форест Гамп»…
Все делают унылое лицо, даже маленькая Люба.
– Не, ну не хотите, «Форест Гамп», давайте….
– «Сайлент Хилл-2»!!!
В итоге, мы смотрим «Матрицу». Старую, добрую «Матрицу».
Постапокалипсис, viva!
Nevermind
Девяностые – сложное для меня время. Я начала жить самостоятельно, вышла за рамки родительского влияния, и даже воспоминания об этом до сих пор волнуют меня. «Нам казалось, что мы на гребне огромной и прекрасной волны…» – слова из «Страха и ненависти», произносимые Джонни Деппом в краткий период рефлексии между более жесткими методами самоисследования, так точно описывают это ощущение. Мой выход из удушающего семейного образа жизни был деструктивен, и, понимая сейчас, что другим он быть не мог, я все же не могу не сожалеть о тех прокуренных годах и растраченной душевной энергии. Никак не получается определиться: выход это был или уход? Свобода или безответственность? Надежда или самообман? Наверное, в амбивалентности девяностых и заключается их особая притягательность. Это, как «Брат 2»: нравится или не нравится – сложно сказать, но свое место в душе занимает безусловно.
Сколько их там – этих культовых фильмов! «Прирожденные убийцы», «Криминальное чтиво», «Trainspotting» – предтеча «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»… Их герои – вечно молодые и вечно пьяные, чем они нравились? Тем, что были свободны или тем, что убивали себя? И чего хотели мы, ненасытно поглощая одну наркоманскую историю за другой в видеосалонах (помните такое – один на 20-30 человек видеомагнитофон, хрипящий, маленький, больше половины фильма надо додумывать самому, но там настоящие слезы и смех, секс, музыка, и этого достаточно для счастья)?
Что мы хотели – освободиться или убить себя? Для кого-то ответ на этот вопрос был очевиден.
«I never lost control»… Я хотела рассказать о нем, а получается, что это – тоже самое, что рассказать о его времени. Если забыли, вспомните: вот он, настоящий символ девяностых – Курт Кобейн, из «Клуба-27», ясное дело…
Что можно о нем сказать? Он ходил в кедах, потому ему было плевать, в чем ходить, и надевал на себя много одежды, не обращая внимания на то, рубашка поверх свитера, а не наоборот, потому что от героина и прочих прелестей его знобило. Ну, и после его смерти кеды прославились. «Nirvana» для моей дочери-подростка – ничем не выдающийся след из унылого рокерского прошлого «предков», а конверсы – часть повседневной жизни. Как и клетчатая рубашка на футболку.
Родители Курта развелись, когда он учился в школе. А потом мать выгнала его из дома, и он шатался, жил то у нее, то у отца. В интервью он краток и честен, описывая свои чувства: «Я стыдился своих родителей. Мне ужасно хотелось иметь типичную семью: мать, отец. Много лет я злился на них». Все просто.
Была бы у нас музыка «Нирваны», если бы Курт имел типичную семью?
Этот вопрос мучает меня как психолога. Мальчик был с детства музыкален, пел Битлов в два годика, семья музыкальная, дяди, тети. Хочется верить, что он бы писал музыку и пел, долго и хорошо, нравился бы всем, без кед, а в пиджаке с галстуком, и не пришлось бы ему брать ружье и стрелять себе в голову. И жена бы у него была не бешеная стерва Кортни, а милая женщина, которая бы своей любовью исцелила его наследственную патологию, и диагноз биполярное расстройство миновал бы Курта, как страшный сон. А в старости господин Кобейн почил бы вечным сном с музыкальными регалиями, а его дети и внуки еще долго бы проживали его миллионы и вспоминали прародителя добрым словом.
Может, Курт и не отказался бы от такой жизни, кто знает? Он говорит: «Я влюбился в Кортни», и случайно попавшее в кадр обручальное кольцо на его худой руке, перебирающей струны, вдруг делает его таким ранимым и трогательным. Вы ведь помните, что внешний вид не находится в зоне важности у Курта. Когда органы опеки хотели забрать у беспутных родителей дочь на воспитание, Курт и Кортни отстаивали свои права и победили. Правда, позже Кортни все равно лишили родительских прав, и дочка Френсис Бин жила с бабушками и дедушками. Потом она выросла, пыталась сниматься в кино, организовала выставку своих картин, сейчас живет неприметно, по слухам, у нее развивается паранойя.
В истории Курта нет сослагательного наклонения. Случилось, что случилось. Его смерть, как и у других коллег по Клубу, вызывает вопросы. Зачем ему нужно было стреляться, если доза героина в крови и так была смертельной? Но у меня возникает другой вопрос – зачем убивать того, кто успешно справляется с этим самостоятельно? Любви, ребенка, славы, денег оказалось недостаточно для Курта, чтобы удержаться в жизни.
Джим Моррисон жив
Я люблю попсу.
Но она ничего не может сказать о моих чувствах.
Когда на меня предъявляет права серьезность, я включаю другую музыку. Музыку, которая всех довела до беды, – и меня, и своих создателей.
Я помню осипшее от сигарет горло и вытравленный алкоголем мозг. Помню страх. Когда твоя жизнь взбесившимся поездом летит под откос. Когда разговоры о способе самоубийства – не только поза, но и размышление.
«Это конец, мой милый друг…»
Я знаю, что немногим везет вырваться оттуда, где была я, хотя многие хотят. Мне повезло. Сейчас я слушаю Шакиру и «Ночных снайперов». Там тоже чувства – десерт тирамису. Иногда оперу (испытываю уважение, в первую очередь, к себе). Какие-то кусочки нравятся.
Долгое время я боялась возвращаться. Услышав случайно, думала – всё прошло. Больше не цепляет. Я сделала другой выбор.
Но бывают дни, когда я не уверена, что выбор вообще существует. Когда про свои чувства я могу сказать только одно: они… слишком. Психоаналитик для них – детский сад, они требуют «музыки», той, которая когда-то давно выбрала меня. Взяла, как щенка, за шкирку и не собирается отпускать.
Привет, мои дорогие! Сегодня ночью – я ваша, а вы мои. Сумасшедший Бриллиант и Солдат Удачи. Здравствуй, Суперзвезда. Я больше не сопротивляюсь – ведь только под ваш аккомпанемент поют мои чувства.
«Когда кончится музыка, выключи свет…»
Конец 60-х – начало 70-х. Я родилась в 77-м. Мне нравилось верить в прошлые жизни. Скорее всего, последняя из них закончилась где-нибудь на грязной американской кухне, от передозировки. Потом годков пять надо было, чтобы прийти в себя. Протрезветь. И – бац! – в ту страну, где ваша музыка зазвучит впервые только лет через десять, полностью снося башку. Потом этот путь приведет в страшные места. Разочарования. Депрессии. Зависимость. Пустота. Безнадежность.
«Мы брошены в этот мир, как собака, лишенная даже кости…»
Но пока мне всего пятнадцать, и я слушаю – нет, вдыхаю – твой голос и твои аккорды, впервые почувствовав, что живу. И, купив тебя на Чернышевской, у странного человека по имени Юргенн, я тащу тебя домой, снимаю со стены портрет благообразной прабабушки, и вешаю тебя на ее место. Ты – мой первый настоящий друг. И еще не скоро я узнаю других людей так же хорошо, как тебя.
«Люди такие странные, когда странный ты…»
Прости. Потом я предам тебя. Я соглашусь, что ты алкоголик и наркоман. Я перестану верить, что ты жив. Я красиво переведу твое стихотворение из «Американской молитвы» (не зная английского) и потеряю его. Сейчас я даже не смогу вспомнить, что это было за стихотворение.
Мне больше нечего сказать. Теперь я хожу по улице Любви. Но иногда приходит такая ночь, как сегодня, и я слышу, что за окном беспокоятся лошади, готовясь в дорогу. Гроза начинается. Пора.
Riders on the storm…
Когда уходит любовь...
Что остается, когда уходит любовь?
Чаще всего, остаются дети. И остаются они с мамой. А что-нибудь еще?
Воспоминания. Плохие, хорошие, мучительные, восторженные. Кто-то сказал, что воспоминания – это преимущества старости перед молодостью.
Расставание старит. Это морщинки и седые волоски. Каждая морщина – память.
Но, может быть, самое пронзительное, что остается после любви – это нереализованные возможности. Непрожитое. То, что было рядом, но не случилось. Или случилось, но где-то там, в параллельной вселенной. Или случится потом, когда встретимся легкими душами и сможем друг друга простить.
Или во сне. Приснится вдруг, что всё-таки сходили на спектакль, когда он гремел на весь город, и зал был полон, и играл самый звёздный состав. Продравшись сквозь толпу жаждущих лишнего билетика, мы сидели на третьем ряду, смеясь и плача, разбивая ладони в аплодисментах. А потом шли по ночному городу и захлебывались в обсуждениях.
Или приснится зимний вечер, как возвращались из гостей, держа за руки присмиревших детей. Шли белёсыми дорожками под беззвучно падающим снегом. Снежинки таяли на наших щеках, и мы улыбались, потому что так здорово идти домой всем вместе, взявшись за руки.
Или вдруг сорвались в пригородный отель, чтобы провести там ночь. Всем сказали, что срочные дела, и валялись на широченной кровати, любили друг друга, в перерывах разговаривая обо всем, что не удавалось обсудить там, в заботах и повседневности. А потом опять занимались любовью, пили вино и шептали друг другу всё несказанное в домашней постели. Заснули, когда уже рассвело.
Ты был со мной рядом, когда я хоронила отца, а я с тобой, пока ты болел той страшной болезнью. Ты обнимал меня день за днем, пока мой мир снова не наполнился красками, а я поила тебя водой и лекарствами, непрерывно меняла повязки, и ты так быстро поправился, что даже врачи удивились.
Или вот сон, в котором мы два пожилых человека, идём по берегу моря. Прожили вместе целую жизнь. Остались друг с другом, хотя все время друг другу делали больно, и ничего радостного вспомнить не можем. Тот спектакль шел двадцать лет, но у нас всё не было времени. В гости мы не ходили, потому что не завели друзей, которые были бы рады увидеть нас всей семьей. А вдвоем не выбирались, потому что не с кем было оставить детей. Когда я узнала о смерти отца, ты был пьян, потому что мы накануне поссорились, и ты пил еще несколько дней, чтобы что-то мне доказать. Когда ты пожаловался на боль, я собрала вещи и увезла детей к маме, потому что меня достало, что тебе постоянно плохо, и только я одна должна всегда чувствовать себя хорошо.
Все это могло быть с нами. И многое другое могло бы быть. Но почему-то не случилось.
Дети, воспоминания и сожаления. Что-нибудь еще остается, когда уходит любовь?
Как дальше?
Себя можно в чем угодно убедить. Что это – временно. Что это потому, что были всякие причины. Комета пролетала, она влияет. Еще влияет полнолуние.
Вообще, хорошо бывает выйти на улицу вечером, проведя пару часов в глубоких мучительных разборках – кто кого первый обидел, и кто и что при этом имел в виду, а там вдруг раз – и висит в черном небе серебряный шар. И кто-нибудь один или синхронно вдвоем, облегченно выдохнет: «Ах, вот оно что – полнолуние». Мы-то думали, разбирались, надеялись постичь причину, по которой несчастны. А никто не виноват, просто в полнолуние всех штормит, известное дело...
Луна – отличная вещь. Она не только отменяет разборки, лишая их изначальной конфликтности, но и обладает примирительной силой. Включает в романтичный контекст.
Получается, что есть в мире явления намного больше, чем мы с тобой. Вечные, непостижимые, позволяющие свалить на себя то, что мы никак не можем разрулить. А нам сейчас лучше побыть друг с другом. Прижаться.
И вернуться домой в обнимку. В этот раз – обошлось. Хаос, клубящийся где-то в основании отношений, в очередной раз усмирен, засунут на чердак совместного бытия. У нас и на чердак-то этот нет большого желания заглядывать, не то, что в сундук. Пусть себе стоит, пока мы наслаждаемся воцарившимся космосом: я – прекрасная жена, мой муж –прекрасный муж, мы – красивая пара, семья – основа счастья.
Так проходит сколько-то времени, и вдруг, из миража, из ничего, слово за слово, снова, блядь, полнолуние!
Хлопает дверь. Ребенок высовывает заплаканное лицо из детской: «Мама, а куда папа ушел? Когда он вернется?».
– Все в порядке, малыш, папа вышел погулять. Он скоро вернется, ложись спать.
И дрожащими руками, отворачивая красное лицо, пытаешься его погладить, чтобы получилось ласково. Доказать, что всё в порядке. Дети – добрые существа, видят, как мама старается, и помогают.
– Спокойной ночи, мамочка. Пусть папа меня поцелует, когда придет.
– Я уверена, что ты уже будешь крепко спать.
– Да, но пусть он... во сне.
– Хорошо. Так всё и будет. Ложись скорей!
И мысли. Как дальше? Развестись? К маме? Тоже уйти, пусть ищет? А разбудит ли он ребенка в школу? А заплатит ли он завтра по кредиту – вдруг забудет? В любом случае, дальше так нельзя. Это не жизнь. Он меня давно не любит. А я? А я его люблю, любила? И вообще, кого-нибудь любила? А меня хоть кто-нибудь любил?
Кто-нибудь, когда-нибудь любил меня?!!
Папа, мама, братья, сестры, дети? Да, понятно. Только почему-то их любовь – не то, что радует в такие моменты. Подруга! Подруга любит. Точно. И я её. Как подругу.
Но сейчас мне нужна совершенно другая любовь, не родственная, не дружеская, Господи, помоги...
Ага, вот оно – Бог! Он единственный, кто всех любит. Раз всех, значит и меня. Пришла, значит, пора познать божественную любовь. Только, Господи, ты прости, но мне, оказывается, надо, чтобы меня любили больше всех!
А тот парень, из отдела бронирования? Может, он? Так смотрит на меня. И когда мы курим, пьем кофе, обсуждаем разные вещи, у меня теплеет внутри. Вот завтра же отвечу на его взгляд. И дам прикоснуться к рукаву.
Мысли отвлекают ненадолго. Не утешиться. Надо что-то менять. Точно надо. Нет больше выхода. И почему все время так больно?
И в этот самый момент внезапно чувствуешь – что-то осталось, и остается всегда, и держит тебя на плаву.
Дыхание.
Вдох, выдох. Еще раз – вдох, выдох. Пока дышишь, всё еще может сложиться иначе. Всё может поменяться. Вдох, выдох... И так всё дальше, дальше от этого момента к иному, который позволит набрать воздуха побольше, и, прежде чем выдохнуть, принять решение.
Черная Стрела
В тяжелые периоды жизни можно познакомиться со всяким сбродом. Потому что сама находишься в этой категории, если период на самом деле тяжелый, а не кажется таковым.
Ты опускаешься на дно. Это медленное и беззвучное погружение. Ты движешься плавно и помимо своей воли – вниз, вниз. Твоя одежда становится замшелой, будто сквозь нее прорастает невидимый мох. Твое тело приобретает не слишком назойливый, но отчетливо неприятный запах, который должен сообщать соплеменникам, что ты не в порядке, и в любой момент можешь слететь с катушек.
Потом приходит голод. Не блокадных времен, конечно. Ты ешь каждый день, но имеющейся в твоем распоряжении пищи недостаточно для того, чтобы чувствовать себя сытой.
Социум еще не презрел тебя. Он верит, что ты выберешься и вновь встанешь в его ряды. Сама. Протягивать руку помощи не собирается – ведь у тебя нет ни рака головного мозга, ни аутичного ребенка.
У тебя что-то простое. Бросил муж, например.
Целыми днями ты шатаешься без дела. По улицам. По интернету. Даже если надо ходить на работу. Все равно, получается шатание, а не работа. Попадаешь в какие-то места: улицы, парки, дешевые забегаловки, замороченные тусовки личностного роста или современного искусства. Там – такие же, как ты.
Можно познакомиться с человеком, который не чистит зубы, объясняя это полезностью для здоровья. Или с человеком, самое присутствие которого приносит деньги. А поскольку сейчас он присутствует рядом с тобой, ты ему уже должна – ведь с завтрашнего дня деньги повалят. Ты, конечно, понимаешь, что фигня, но почему-то чуточку веришь. Поэтому, из корыстных соображений, ты соглашаешься, не на секс, а на то, чтобы он заехал к тебе в гости попить чаю с последней пачкой печенья. На своей кухне подпитываешь манию величия, а может, и более плачевный диагноз, и потом что-то из этого неотвратимо оседает в тебе. Оказывается, ты тоже не просто так. Недоинициированный медиум-трансформер.
Можно встретить человека, который живет на ржавой барже, потому что там у него бизнес. Какой бизнес? Рыболовный, что ли? Но ты уже знаешь, что лучше не спрашивать, потому что подробности будут либо лживы, либо ужасны, а тебе вполне хватает и собственной лжи, и собственного ужаса.
Через год-два у тебя налаживается. Твое подводное плавание становится чередой не очень четких воспоминаний. И вдруг за кассой в магазине узнаешь одного из той сумасшедшей команды. Вы оба чуть застываете, заглатывая непривычный воздух. Ведь там, на глубине, дышалось иначе.
«Ты? Я... а ты? Вот черт...». Это беззвучный и быстрый диалог. Глаза не хотят смотреть, уворачиваются. Ум не хочет вспоминать, убегает. И только легкие расслабляются, выдыхая накопившуюся пыль, и прошлое успокаивается в трюме «Черной стрелы», самого отчаянного и любимого из твоих кораблей.
Он и она
Я видела, как он шел впереди меня, и как светилось что-то внутри него. И она, двигаясь рядом, перенимала его ритм, проникалась его движением – плавным, скользящим, раскованным. Но у нее не получалось засветиться. Она опустила плечи, поникла, ей пришлось остановиться, и она долго кашляла.
Я поняла, что сейчас он уйдет от нее. Что у каждого своя судьба, и они с разных планет. Она, наверное, тоже так подумала, но не хотела отпускать его, вцепилась в одежду, крепко и без надежды. Вот что значит «схватиться за соломинку».
Как он уйдет? Отстранит ее? Вежливо извинится? Пожмет плечами?
Она не смотрела на него, смотрела вниз, оцепенела, ждала его решения. Ее попытка удержать его была бессмысленной, будто бы только для того, чтобы дать ему возможность показать свою силу, показать, как нужно уходить.
Но он не ушел. Остался рядом, держал ее за руку и смотрел на нее. Что-то говорил. Сейчас они были совсем разными: он – красивый, сильный и добрый, как из кино, она – неряшливая, полноватая, с опухшим лицом и черными разводами расплывшейся туши.
Его губы перестали шевелиться, а она затряслась от слёз. Чем больше она плакала, тем крепче он прижимал ее к себе. Потом он тоже заплакал. Они долго стояли так, уткнувшись друг в друга, посреди улицы, вызывая недовольство прохожих, вынуждая обходить себя, сбавлять скорость.
Вдруг проезжающая мимо машина резко осветила их светом фар, и я увидела, как на их руках блеснули обручальные кольца. А потом их руки разомкнулись, чтобы через секунду вновь отыскать друг друга, и сжаться неразделимым клубком.
Они пошли вперед, чуть медленнее, чем раньше. Довольно быстро он снова наполнился сиянием. Он предлагал еще одну попытку. И она откликнулась, стала повторять его движения и ловить его ритм. Каждый шаг расправлял ее плечи, и тот воздух, которым умел дышать он, постепенно проникал в ее легкие. Сначала ее свет был совсем робким, как маленький язычок пламени. Но больше она не сомневалась в нем, и их движение, подобно ласковому ветру, раздувало огонь все ярче.
Скоро они исчезли из виду. А сияние осталось. Я шла совсем медленно, и видела, что люди на улице тоже невольно замедляют шаг.
Прошло несколько минут, и сияние рассеялось в вечернем воздухе, стало неуловимой частью магии города. Сколько таких историй собрал он за этот вечер?
Сегодняшние сумерки будут особенно сильно манить, звать в ночную жизнь, в полутемные клубы, прокуренные бары, где, кажется, так легко бросить привычное и начать новую жизнь, в которой вот-вот, еще чуть-чуть и всё будет совершенно иначе, потому что ты наконец-то найдешь её – свою единственную, настоящую, вечную и большую любовь.
Бег
Что ждет тебя, шестнадцатилетнего, видящего мир по образу и подобию своих родителей, единственных людей, о которых ты узнал хоть что-то? Они выгоняли тебя на улицу, били по лицу, курили на кухне, жарили картошку, обсуждали соседей, выносили мусор, пили, кто корвалол, кто водку, храпели, стирали, уезжали на лето, давали деньги, наливали шампанское в прабабушкин вычурный бокал и чокались в честь твоего шестнадцатилетия: «Теперь ты такой же, как мы, – пей!» Ты выпил, делая вид, что впервые, чтобы этой фальшивой инициацией отвести их внимание от себя настоящего, и бегом, вниз по лестнице, кубарем, кувырком от их правды, их веры в то, что ты – как они. Теперь у тебя есть собственный паспорт, и ты, наконец, добился того, чем они не обладают. Молодость, твоя фора, твой уставный капитал, вложенный с максимальной выгодой, чтобы ни за что не прогореть.
Беги, Форест, беги! Беги, туда, где тебя любят, даже если сейчас тебя никто не ждет. Твои, одной крови с тобой, тоже бегут, каждый от своих образов и подобий, чтобы в конце лестницы встретиться, столкнуться и оскалить зубы, подергать носом, втянуть холодный воздух ползущей за летом осени, и присесть на корточки, и осмотреться.
Так ли ты представлял себе эту ночную встречу, когда тело взрывается залпами истаивающих надежд, а шокирующие откровения чужой физиологии не совпадают с учебниками и кинокадрами, из которых до этого состоял весь твой опыт другого пола? Да, затихает твой голод по взрослости, теперь все, как надо.
Ты существуешь – новый и отдельный от сидящих на корвалоле с сигаретой и мусором, в ожидании ночного тебя. Увы им, ночного тебя больше нет. Пусть узнают утреннего, грубого великана, который теперь гуляет сам по себе. Ты несешь им бобовое зернышко, чтобы они узнали и себя вместе с тобой. Пусть посмеются и порадуются, смирятся с твоей властью над собственным телом, больше им недоступной, и отпустят тебя. Пусть кричат тебе в спину напутствия, называют уголовником, выдувают дым, плачут от безысходности и понимают, что их река утекла.
Ты был и раньше, в утробе, сложенный вчетверо, в чемодане, увозимый на лето к бабушке. Ты плакал и звал, чтобы кто-то пришел, но если и откликались, то не люди, а видения, облака, мысли, записанные, зачитанные, про себя и вслух, на кухне, на скамейке, в электричке, в стуке колес. Мысли жалели, сочувствовали, успокаивали, уводили все дальше, за лестницу, за входную дверь, за самую страшную границу мира – мусорный бак. А за ним полыхала ярко-красная рябина, и закатный купол, и желтый лист осенний.
«Только ты сегодня не придешь»…
Лето заканчивается, разве ты не знал? Возвращайся домой, что тебе еще делать, брошенному, утратившему невинность и потерявшему любовь? Там накормят тебя, уголовника, и положат в карман проездной, чтобы ездил по понедельникам на метро. Не каждый, кто убегает, – смелый, и хотеть – еще не значит получить. Беги, Форест, беги!
Когда ты, убежав, остановишься, с тобой выйдут проститься мертвые, чтобы ты, наконец, узнал, что уже некому тебя догонять. Но и их позовет наступающий февраль, и они осядут в его снегах, потому что новая весна должна начаться без них.
Разведи костер, посиди, встречая свой одинокий юбилей, если замерзающие пальцы дадут тебе задержаться на пару часов. Сколько раз ты загнешь их, отсчитывая длительность своего бега?
Два по десять, и еще четыре. И те шестнадцать, с которых все началось, когда ты летел по лестничным пролетам от опостылевших окон.
Теперь вокруг нет домов, нет глаз, смотрящих на тебя снисходительно, нет слов, звучащих неласково. Есть только медленный счет, как в детстве, когда ты, повторяя, запоминал последовательность чисел. И радости от того, что, не сбившись, дошел до сорока, вполне достаточно для счастья.
Путешествие
Итак, я вернулась туда – в Псковскую область, в Пушкинские горы. Хотя маршрут Псков-Пушгоры – самый, наверное, простой и очевидный для жителя Санкт-Петербурга, что-то все время не складывалось за последние десять лет. Не занятость, не отсутствие компании – страх встречи с собой тормозил меня. На четвертый день, когда мы уже обошли всё Михайловское, я почувствовала горечь:
– Я хотела найти здесь часть себя, и не нашла.
– А помнишь, как ты ее потеряла?
– Я отказалась от нее.
И тут внезапно, без предупреждения, я увидела ее – худенькую высокую девушку. В очках, с непричесанными волосами, ссутулившуюся и испуганную, прижимающую книгу к груди: не для того, чтобы читать, а чтобы закрыться – ото всех и ото всего, на всякий случай. Пачка сигарет и зажигалка – дополнительная страховка, если вдруг не поможет книга. У меня всегда с собой есть зажигалка: это, наверное, единственная характеристика, на которую я могу рассчитывать со стороны моих сокурсников, с которыми прохожу музейную практику в Михайловском. Я тщательно слежу за зажигалкой, потому что, если ее у меня не окажется, придется у кого-нибудь просить. А это так нехорошо, неловко. Ужасно!
Коммуникация – мой враг. Мой дикий кошмар. За возможность избежать необходимости что-то кому-то говорить я могу продать душу. И подписать договор кровью. Однако местным силам данное предложение не интересно, ведь я сама убеждена в том, что никакой ценности моя душа не представляет. Больше геморроя, чем пользы. Примерно такое же мнение о себе я читаю в глазах всех встречающихся мне мужчин.
Ну и ладно. Зато я умею курить и пить портвейн с пивом. И только что прочитала «Заповедник». Мне нужна поддержка в литературных кругах. Что я не одна такая, не могу проникнуться возвышенным духом усадьбы. Еще Довлатов.
Много лет спустя, на моей первой расстановке был весьма патетический момент, когда мне нужно было обратиться к «предкам» фразой: «Пожалуйста, смотрите на меня с любовью». Зачитанный до дыр «Заповедник» мгновенно активировался в моей голове, и не дал сохранить серьезное выражение лица:
«Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:
– Взгляните на меня с любовью!
Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия».
Безусловно, на тот момент, этот короткий отрывок точнейшим образом описывал мои отношения с семейной системой.
Так вот, самое страшное ждет меня в конце третьей недели практики –надо будет вести экскурсию по усадьбе. То есть, говорить что-то. Говорить вслух и людям. Ужас. Обстановка воссоздана предметами того времени, подлинные вещи, скамеечка Анна Петровны Керн, железная трость, посмертная маска поэта… К концу моего нечленораздельного повествования члены туристической группы смотрели на меня очень сосредоточенно, пытаясь понять, у кого на самом деле проблемы – у меня или у них. Потом был отходняк. И всю ночь мучил стыд.
Это – одна сторона медали. Но есть и другая. Ветер. Солнце. Теплый воздух. Запах сосен. Городище. Словно впервые мне открывается красота этого мира в ее полноте, не фрагментами, а целиком. Когда каждая травинка на своем месте. Каждый камень. Каждый цветовой оттенок. И та сила, которая хранится в курганах и древних крестах, бьет мне в лицо сияющим лучом, заставляя на миг зажмуриться, а потом распахнуть глаза внутрь и увидеть нечто, от чего ускоряется кровоток и сердце вспыхивает пылающей жутью. Я не могу подобрать для этого слов, мне не с кем поделиться тем, что я чувствую. Не могу даже не допустить мысль, что кто-то из окружающих сможет меня понять. Зато я сама теперь понимаю, откуда у Александра Сергеевича все эти карлики, русалки, черти, девы, витязи и Голова. Ведь проходя мимо холмов городища Воронич, я тоже вижу стоящие там души воинов.
И я чувствую, как шевелится что-то совсем древнее, неназываемое «оно», которое у нас с Пушкиным одинаковое. Мы из одного племени. Можно сказать, до меня дошло, что я русская.
В этих переживаниях было так много пафоса, что я испугалась. Я заглядывала в глаза своим сверстникам, и людям постарше, надеясь увидеть какой-то отблеск, намек, что кто-то еще это знает. И видела пустоту. И решила лучше молчать, чтобы меня не подняли на смех.
А потом я вернулась в Петербург, время обучения в университете подходило к концу, и реальность стучалась ко мне беспокойными мыслями. Что моей филологией (причем ладно бы знала язык! нет, одну литературу, да и ту кое-как!) на жизнь не заработать. Что все эти переживания и ощущения – окончательная и никому не нужная фигня. Что миром управляет и определяет, кто молодец, а кто лузер, мой страшный кошмар Коммуникабельность. И ее надо Развивать. Иначе – аллес капут.
Когда от меня ушел муж, я обвинила в этом ее – худенькую, высокую девочку, не способную рассказать про табуретку Анны Петровны Керн. Я выбросила свои стихи и недописанный роман. Не сожгла, из той же боязни пафоса. Просто выбросила в мусорный бак. Здорово, что на самой пыльной полке осталась одна тетрадка, и я нашла ее потом, в самый подходящий момент.
* * *
Мы пробыли в Пушгорах еще три дня. Я больше не говорила о ней. Она тихонько шла рядом, чуть позади меня, по-прежнему прижимаясь к книжке, пугаясь моих беспокойных, шумных детей. Я грустила по ней. Я спросила, как мне назвать ее.
Юность…
Моя юность. Я плачу, я смеюсь. И было там еще кое-что – важное, казавшееся потерянным и невозвратным.
Я сказала родным, что мне нужно побыть в одиночестве, и, медленно шагая по тропинкам Тригорского, позволила звучать тем самым словам. Я стала ею. А точнее, никогда не переставала ей быть. Просто мы все совершаем ошибки. Особенно в юности.
Что она сказала мне? Что я услышала?
– Я это ты. Пожалуйста, смотри на меня с любовью.
Я люблю. И больше не боюсь пафоса.
Ключ Вормаркша
Ключ Вормаркша
Вормаркша я встретила во сне, где долго шла по какой-то дороге, и пришла на Драконью скалу. Там мое тело покрылось чешуей, и за спиной неловко расправились острые крылья. На вершине Вормаркш встретил меня и взял в обучение. Я узнала, что чешуя называется «кожурой», потому что под ней у дракона кожа, и еще много интересного – как насылать ветер, маскироваться под крокодила, и что делать, если мешают щупальца.
Однажды Вормаркш принял человеческий облик, и я спросила, почему страдаю там, в человеческом мире? Вместо ответа он встал и повел меня сквозь цветущий, сияющий сад. Мы долго шли вдоль рассыпанных камней и искристых водопадов, пока не оказались у ограды.
– Я даже не знала, что у этих садов где-то есть конец, – сказала я.
Он продолжал идти, не ответив, я шла за ним, и так мы подошли к краю пропасти, дна которой не было видно.
Он чуть наклонился и заглянул туда, я сделала то же самое. Сначала не было ничего необычного, однако очень быстро я почувствовала тянущее вниз движение, которое не могла контролировать. Склоняясь все ниже, я попыталась шевельнуть рукой в сторону Вормаркша, уже понимая, что это бесполезно.
Но в самый последний момент он крепко схватил мою руку и сильным рывком отшатнул меня назад. Я упала в траву, а он склонился надо мной, посмотрел прямо в глаза и четко, отрывисто произнес:
– Если все время смотреть вниз, в конце концов, упадешь.
Вормаркш никогда не отвечал на вопросы прямо, случалось, он выдавал одну загадку за другой. Например, спросив про страх, я могла услышать стишки:
Больше не увидишь,
Больше не вернешься,
Больше не откроешь
Вечные врата.
Но вернется голос,
Но вернется сердце,
Но вернется ветер
И твоя душа.
– Ну и что мне с этим делать? – это был мой коронный вопрос.
Осторожной верой
Не разрушить замок,
Только, если верить -
Замок из песка.
И так до бесконечности.
Однажды я не выдержала:
– Больше не вернусь. Мне надоело. Эти пафосные аналогии, меня от них тошнит.
Я вылетела из его дворца, и какое-то время жила сама по себе. Дни стали однообразными. Ночи без сновидений. Движение замерло. Тупик. Казалось, я получила жизнь, но лишилась чего-то важного, в связи с чем жизнь и была нужна. Потом сны вернулись. В одном из них Вормаркш позвал меня. Когда я вошла в зал для аудиенций, он предстал передо мной в самом пугающем и уродливом из своих обличий. Он напоминал чудовище, и его настроение было едким и уничтожающим.
Я могла только обвинять его. Он заревел и метнул сполох зеленовато-синего пламени в мою сторону, ясно дав понять, что не намерен слушать. И тогда я вдруг поняла, что хочу задать ему всего один вопрос:
– Кто ты? – прокричала я, съежившись от страха, не зная, чего теперь ожидать.
Он изменил свой облик. И мысленно предложил мне самой найти ответ. Слова вдруг стали не нужны. Мы чувствовали друг друга.
– Ты дух?
– Демон?
– Часть меня самой?
– Любовь?
– Смерть?
Все это было о нем, но не до конца. Но я уже поняла, что знаю его, и знала всегда.
– Ты мой отец...
Все мгновенно изменилось. Прежней меня больше не было. Шум деревьев, запах воды, горячий воздух, щекочущий кожу. Папа стоял рядом. Мы оказались на юге, где прошло мое детство, где вырос и он. Он был очень высоким, гораздо выше меня.
Сначала я засмеялась:
– Могла бы и догадаться! Вормаркш – Владимир Мешков, игра букв…
Он тоже смеялся. Потом сказал:
– Я не могу ответить на все твои вопросы, потому что и сам многого не знаю. Но я дам тебе ключ, который тебя поведет и откроет все нужные двери. Единственная свобода, которую мы заслужили здесь, на Земле, – это свобода творить. Помни, что для творчества нет границ. Творчеству все равно, если оно кому-то не нравится. Творчество не боится умереть. Просто позволь этому быть. Я знаю тебя, и я в тебя верю. И это даже больше, чем «я люблю тебя».
– Как мне теперь найти тебя? – по моим щекам текли слезы, я не хотела прощаться.
– У тебя мой ключ. Незачем искать. Я всегда в твоем сердце.
Со дня смерти моего отца прошло десять лет. Он умер, а через два месяца взлетели на воздух американские башни-близнецы, а еще через два месяца родилась моя дочь.
Он умер не дома. Когда мы прощались с ним перед отъездом, я еще не знала, что это наш последний разговор. Он сказал: «Я очень люблю тебя», и я ответила: «Я тоже».
Мое сердце спокойно благодаря тому, что мы сказали друг другу самые главные слова, но как же хочется поговорить еще…
Альтернатива насилию
Психологическое насилие представляет собой насилие, совершаемое над личностью человека. По этой причине оно является не менее разрушительным и аморальным, чем насилие, совершаемое над телом, – ведь именно личность является важнейшим аспектом самоидентификации любого человека. Однако личность – не материальное образование. Мы не можем вызвать полицию и зафиксировать побои, от которых она пострадала. Благодаря этому психологическое насилие легко скрыть или выдать за что-то другое, привлечь для его оправдания лже-моральные и обывательские установки. В большинстве случаев, именно выхолощенная мораль оправдывает насилие. Человек, пострадавший от психологического насилия и заявивший об этом, оказывается в небезопасной ситуации, ведь тенденции виктимблейдинга (обвинение жертвы) общественно одобряемы.
Насилие над личностью бывает разным. Например, оно может быть следствием неспособности или нежелания родителей выполнять эти задачи в отношении ребенка. Сюда относятся как вопиющие случаи, когда ребенка плохо кормят или не кормят вовсе, плохо одевают, так и более сложные ситуации, когда сама атмосфера семьи несет в себе деструкцию по отношению к базовым потребностям. Это может выражаться в патологичном отношении к процессу приготовления и употребления пищи, гигиеническим процедурам. Когда ребенка заставляют заниматься деятельностью, которая ему не по возрасту, это тоже насилие. И это не только очевидные случаи: кормить ночью домашнюю скотину, таскать с отцом кирпичи для строительства дома, но и менее очевидные: выносить судно за лежачей бабушкой, отмывать места общего пользования после алкоголической вечеринки отца, бежать ночью в круглосуточную аптеку для разыгрывающей припадок истероидной мамаши. Думаю, многим известны случаи, когда подобную деятельность были вынуждены осуществлять дети 5-6 лет. Перечень можно продолжать бесконечно, чего стоят одни только спекуляции на здоровье, столь любимые старшим поколением.
Психолог Алис Миллер не разделяет воспитание на плохое и хорошее, она рассматривает основу любого воспитания как принципиально карательную. Альтернативу воспитанию как системе наказаний и поощрений, она видит в психотерапии – не в смысле клинического процесса, а в способе общения, построения отношений взрослого с ребенком, и вообще человека с человеком. В таких отношениях имеет место уважение к ребенку, соблюдение его прав, понимание его чувств и потребностей, готовность наблюдать за поведением ребенка, с целью проникнуть в его сущность и понять особенности, присущие его внутреннему миру. Родителям трудно научиться такому отношению, им препятствует в этом собственные детские раны. Но те, кому это удается, оказываются в состоянии создать для ребенка питательную среду, в которой раскрывается заложенный в нем природой позитивный потенциал, расцветает его одаренность.
Когда-то мой отец был революционером в своей среде: он не бил своих детей. Его позиция по этому вопросу была принципиальной и жесткой: ни удара, ни шлепка, никаких «сорвался» и «для твоей же пользы». Сам он был родом из небольшого южного городка, куда мы приезжали только на лето. Когда соотечественники узнавали о его взглядах, о том, что нас с братом не бьют в семье, они испытывали оторопь и шок. Это было для них настолько необычно, что разрушало всю картину мира. Некоторые даже косились на отца, как на ненормального, и крутили пальцем у виска – совсем, мол, двинулся в своем Ленинграде. Я уже давно не была в тех местах, но надеюсь, что сейчас там все больше молодых современных родителей, для которых избиение – это нонсенс. И может быть, они даже удивятся, узнав, что их дедушки и бабушки считали, что это в порядке вещей.
Ну а мне повезло. Я выросла человеком, который ни разу в жизни не испытал на себе физического насилия, потому что с самого раннего детства я знала, что это – неправильно, даже если большинство считает иначе. Таким образом, мой отец дал мне не только физическую защищенность, но и продемонстрировал, как можно отстаивать свою позицию, не бояться осуждения и непонимания, доверяя своей внутренней правоте.
Я искренне верю в то, что от насилия можно и нужно уходить как можно дальше, распознавая его во всех формах. Насилие не перестает быть насилием, даже если оно узаконено обществом и не воспринимается большинством как зло. Внутри себя каждый из нас знает свою собственную правду. Главное – доверять ей и преодолеть страх.
И тогда возникает совершенно новый вопрос – а чем заполнится тот объем семейной жизни, который раньше занимал треугольник Карпмана? Мне кажется, это чудесный вопрос, особенно для тех, кто, как когда-то мой отец, твердо решил выйти из круга насилия. У нас с ним были осенние прогулки, бесконечные разговоры о простом и сложном, разгадывание кроссвордов, валяние в снегу до снежных катышков, рассматривание картин в Эрмитаже, огненные закаты на склоне реки, и еще много всего. Осмысляя этот опыт обыденной жизни как психолог, я твердо убеждаюсь в том, что создание безопасной атмосферы в семье – первостепенная задача для людей, ее образующих. Человеку свойственно передавать свой опыт другим, поэтому тот, кто вырос в безопасной среде, непременно распространит ее дальше, за пределы своей личности. Ведь именно личность человека – то, что останется с другими людьми, когда его тело завершит свое развитие.
Память
«Пройдет много лет, и, стоя у стены в ожидании расстрела, полковник Аурелиано Буэндиа вспомнит…»
Я смотрю из окна красного «Запорожца» на летящие мимо поля, не отрываясь. Как быстро! Как хорошо! Впереди – мой папа, а за рулем – его неприятный друг, жилистый, тощий, туповатый мужичонка, по кличке Кутурушка.
Мне не вспомнить его настоящее имя. Может, он и не был тупым. Но он отбирал у меня папу, и за это я ненавидела его. Я ненавидела всех, кто приходил неожиданно, с бутылкой и картошкой в мундире, смотрел сальными заискивающими глазами, и ныл осипшим голосом: «Мешок, ну чё…». И папа торопливо доделывал какое-то обещанное мне дело, но был уже не со мной, а потом бежал к этим мужичкам, и я знала, что через несколько минут он засипит так же, как они, опустевшая бутылка сменится следующей, и исчезнувший счастливый вечер уже не вернешь.
Но сегодня, в последний день лета, Кутурушка и Мешок везут меня по ростовской трассе, ранним утром, и солнце встает над полем, раскатывается светом над полотнами трав и цветов, запах которых врывается в обнаженные окна «Запорожца», прямо ко мне. Папе всегда жарко, и он везде открывает окна. И сейчас то редкое счастье, когда никто не требует их закрыть, а то продует, и не опутывает меня косынкой, а то вдруг уши. Я просто дышу травой, и ветер с силой хлещет меня по лицу.
Потом пьяный Кутурушка неожиданно крутит руль не туда, и мы, чуть не перевернувшись, съезжаем в канаву. Папа возмущен, ругается: «Я же везу ребенка, ты хоть соображаешь!» Кутурушка смущается и стыдится, и это справедливое возмездие наполняет меня восторгом. Я ведь его ненавижу.
Есть несколько фраз в моей голове, из разных книг, которые навегда захватили меня в свой плен, как только я впервые их прочитала. Не знаю, в чем их магия, она такая же, как свет солнца, сияющий за окном старой машины над полями моего детства.
Я просто повторяю их про себя, без всякой на то причины, и какая-то внутренняя волшебная дверь открывается, чтобы я могла войти. И тогда я верю, что иду к чему-то прекрасному, что пока еще не могу описать своими собственными словами.
«…тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед».
Я не обещаю тебе розового сада
Так называлась книжка, которую я прочитала очень рано, лет в десять.
Я читала много и все подряд. Гюго, Лесков, Булгаков шли наравне с Винни-Пухом и Питером Пэном.
Но тут я столкнулась с чем-то принципиально новым. Что-то врезалось в меня, и я почувствовала, что навсегда.
Мир большой шутник. В 10 лет я не могла знать, что такое психотерапия. Этого не знал даже мой отец, высший для меня авторитет, потому что никто не знал этого в той стране, где мы жили. И откуда эта книжка затесалась на его полке, он не знал тоже. Полная мистика. Издание 1977, в год, когда я родилась.
Став постарше, я объяснила себе, что это, мол, была моя первая встреча с модернистской литературой, и потому такое сильное впечатление.
Не то. Да и модернизма там не особо.
Это книга израильского автора о терапии подростка с шизофренией. Как-то вскользь я потом наткнулась, что автор психиатр и в основе ее реальный кейс. Но не важно.
Вся ее суть – в описании разрушенного и воссоздающегося контакта.
Главная героиня, девочка-подросток, живет в двух мирах – обычном, где есть ее родители, ее болезнь и встречи с психиатром, и воображаемом, который населен богами.
Она находится в отношениях с этими богами. Они разные. Есть среди них красавчик Антэррабэа, Вечно Падающий Бог.
Некоторые неплохо к ней относятся, другие мучают ее.
Но ее самая страшная мука – когда они исчезают все сразу.
Это ее наказание, когда они уходят, не объясняя, когда вернутся, и жизнь полностью теряет смысл.
Сеансы длятся долго, годами. Конечно, не только сеансы, но и таблетки.
Женщина-психиатр, работающая с девочкой, постепенно узнает весь ее мир. Всех богов. А девочка все больше начинает видеть реальность.
Кульминационным моментом становится тот, когда героиня оказывается перед выбором – жить реальной жизнью или сохранить жизнь богам.
Ей мучительно думать об их смерти. О том, что она их убьет. А они, хотя до того обладали безграничной властью, сильно грустят, готовясь встретить свой рагнарек.
Девочка говорит о том, что в реальной жизни и близко не будет ничего подобного им. И вообще она не понимает, на что сможет здесь рассчитывать. Ведь она навсегда останется психически больным человеком.
Именно тогда психиатр произносит эти слова:
- Я не обещаю тебе розового сада.
I never promised you a rose garden.
Безумно красивая фраза.
У меня в сердце есть специальное место, в котором живут такие фразы. И я иногда рассказываю о них. Вот как сейчас.
Я не знаю, можно ли лучше сказать о психотерапии. Здесь сказано все, что нужно.
Девочка стала девушкой и ушла от богов. Они простились с ней, а потом погибли, потому что были ее миром, и ее мир не смог существовать без нее.
Она ушла туда, где не обещают розового сада.
Когда я думаю о том, почему мы так поступаем, сердце трепещет.
Легкое дыхание
Осенью, когда я была маленькой, мы с папой ездили в Пушкин, бродили по усыпанным листьями дорожкам и разговаривали. Это были какие-то своеобразные интервью – я спрашивала, он отвечал, потом наоборот.
Начиналось всегда с двух вопросов, ответы на которые я знала давным-давно, но почему-то каждый раз задавала их снова. Наверное, это был ритуал, установление контакта. А может, мне просто нравилось слушать, как отец говорил о себе. Он был интересным, и мне хотелось понять его.
– Какое твое любимое время года?
Он отвечал, что осень, и обязательно уточнял, выдержав многозначительную паузу: «как у Пушкина».
Так неведомый Пушкин, о котором я знала, что он обитал еще как минимум в двух столь же пафосных местах – «Мойка» и «Черная Речка» – становился мне ближе и понятнее, потому что оказывался похож на папу. А отец, в свою очередь, возносился в зачарованные выси, из которых происходил сам Пушкин, – то ли город, то ли человек.
– А какого цвета у тебя глаза?
– Цвета опавших листьев.
Мне был известен коричневый цвет, но к папиным глазам он не подходил, а слова «карие» я не знала. Я чувствовала, что где-то подвох, что не бывает такого «цвета опавших листьев»:
– Ты это выдумал!
– Нет, конечно, посмотри под ноги!
Я разглядывала опавшие листья, сравнивала их с его глазами, а потом уже не хотелось что-то выяснять и доказывать, а становилось просто весело и совсем уж волшебно, и это волшебство увлекало нас с ним в новое путешествие, в новые разговоры и неожиданные находки. Желуди, веточки, цветочки – все это тащилось вместе с нами в электричке домой, чтобы там окончательно засохнуть, завянуть, расколоться и рассыпаться на части, но все же не быть утраченным.
Через несколько лет я стала подростком, а его алкоголизм вышел за допустимые рамки, и мы перестали ездить куда-то вместе. Но литературу обсуждали по-прежнему, она стала нашим посредником, через которого теперь, в изменившейся жизни, по-прежнему можно было задавать друг другу вопросы.
– Не хочу читать Бунина. Почему я должна писать на тему, которая мне не нравится?
Я не могу ему объяснить, что не так в Бунине, потому что сама до конца этого не понимаю, просто испытываю смутное отвращение.
– А «Легкое дыхание»? Это одно из моих любимых…
«Антитеза высокого и низкого», «бунинский эротизм» – все это еще впереди, как в свое время знание о том, глаза цвета опавших листьев называются карими. А тогда, в подростковом возрасте, «Легкое дыхание», казавшееся поначалу безнадежно скучным, стало очередной попыткой понять, почему кто-то близкий делает с собой страшные вещи.
Сейчас это уже не важно. В облачном небе, в холодном осеннем ветре – этот мир навсегда сохранит дыхание тех, кто любил нас. И, рассеявшись, оно непременно станет легким. Каждую осень я чувствую его на своей щеке, когда иду по ковру из опавших листьев и вспоминаю глаза моего папы.
And the stars will be your eyes…
And the stars will be your eyes
And the wind will be my hands.
«Far from any road» – OST True Detective
And the stars will be your eyes
And the wind will be my hands.
«Far from any road» – OST True Detective
Одно из любимых детских воспоминаний: я заглядываю в папину комнату и смотрю на его письменный стол. Аккуратно разложены фотографии под стеклом, так же аккуратно сложены школьные тетради. В одной стопке проверенные, в другой – на очереди. Папа учитель, и в учениках он видит людей, что для советской эпохи непривычно и даже вызывает нарекания со стороны некоторых заслуженных педагогов. Но папу не пронять поджатыми губами и неодобрительными взглядами – пережив донос и заключение, он с презрением относится к так называемому общественному мнению. Ребенок – личность, и все тут. А труд личности папа уважает, и раз работа сделана вовремя, считает необходимым ее вовремя проверить, чтобы не томить ребенка ожиданием оценки. Папе неведома прокрастинация. Мне всего шесть, я хочу с ним поиграть, но он говорит: «Подожди, я еще не проверил тетради». Я не расстраиваюсь, ведь важность исполняемого им дела наполняет важностью и меня, только спрашиваю, можно ли подождать здесь, в его комнате. Он соглашается, но просит его не отвлекать. Я, конечно, обещаю, но минут через пять море вопросов – срочных, неудержимых, требующих немедленного ответа – атакуют мою хрупкую волю со всех сторон, и вот уже первый из них сам собой слетает с языка. Что-то животрепещущее, типа: «А почему ты пишешь красной ручкой?». Папа терпелив, как обычно, и на пару-тройку вопросов отвечает, не отрываясь от тетрадей, затем предлагает мне осознанный выбор: помолчать, если я все же хочу остаться, или ждать за дверью. За дверь не хочется, и я принимаюсь рассматривать ковер. Советские ковры так устроены, что с небольшой добавкой воображения легко превращаются в фантастических тварей, с которыми можно напридумывать от скуки историй. Наконец, тетради перемещаются в проверенные стопки, и наступает Великая Вечерняя Игра.
Мне тридцать шесть, и я снова вхожу в его комнату. Папы уже давно нет, но стол все еще там, я собираюсь увезти его с собой в свой новый дом и отодвигаю от стены. На пол падает черновик с папиным почерком, в котором я узнаю предисловие, написанное им к незаконченной книге:
«Чем длиннее делает Бог мою жизнь, тем больше я убеждаюсь, что человек создан Всевышним для мучений. И правит его жизнью Дьявол. Он, человек, понимает свою беспомощность, но не сдается. И противопоставляет злу свои аргументы. Думаю, что именно это обстоятельство удерживает какое-то равновесие на Земле. Книжка, которую ты, читатель, держишь в руках, есть мое человечье (и потому слабое) усилие, направленное на поддержание указанного равновесия. А чтобы перевесить аргументы Дьявола, необходимо великое множество этих слабых усилий, соединенных вместе».
Я у себя дома, мне сорок два, и я смотрю True Deteсtivе, сидя за папиным столом. Разговоры героев, движение машины, виды, музыка, пронизанные единым ритмом, завораживают, словно пульс самой жизни бьется через экран.
У человеческой души есть верный способ пережить внезапно открывшийся ужас бытия – расколоться на две части, раненую (Раст) и копинговую (Марти). Пресловутые глаза Макконахи и шлейф психопата, тянущийся за Вуди Харельсоном из «Прирожденных Убийц», придают нужные оттенки такому распределению ролей. Внутри личности две части вступают в глубокий и затяжной конфликт, из которого выход только один – понять, насколько сильно они нужны друг другу. Близость к смерти, опыт любви и обретение смысла – три экзистенциальных шага, делающих интеграцию возможной. В финале они вместе, Марти и Раст, и больше не спорят.
Личность – это то, как мы переживаем травмы. Личность не исчезает с биологической смертью своего носителя. Остается вклад, сделанный в человеческий генофонд, и остается возможность контакта. Через любовь Раст встречается с отцом и дочерью и понимает, что дверь всегда открыта. Чтобы зайти в нее, умирать не нужно.
Когда-то была только тьма, папа. А сейчас свет побеждает.
За мечтой
2-3 дня в неделю проходят так. Я провожаю мужа в офис. По дороге мы болтаем. Потом иду в кафе неподалеку. Заказываю черносмородиновый чай с лимоном. Его наливают в большую чашку. Я сажусь за столик у окна в углу. Утопаю в кресле цвета хаки. Мой любимый цвет. Мой любимый размер.
Начинаю писать.
Время пролетает. Если у мужа не много приемов в этот день, я дожидаюсь его, и мы вместе возвращаемся домой. Но чаще я ухожу одна. Когда опустела чашка, и все мысли пойманы текстом.
Это моя работа.
Так странно. Это? Твоя? Работа?
Да. Я много пишу. И буду еще больше, потому что планов громадье.
Конечно, я консультирую, организую группы, дома куча всего…
Но здесь, в кресле болотного цвета, я работаю тоже. Это неоспоримый факт бытия.
Каждый раз, когда начинают щекотать искорки восторга, приходит она. Садится в кресло напротив. Таня из прошлого.
Юная. Смешная. Наивная.
Привет.
Спасибо, что мечтала. Для твоего круга это был дурной сон из буржуазного кино.
Спасибо, что ты уходила от них, и шла к другим, смотреть, как живут они. Чувствуя себя неуютно, говоря невпопад, сгорая от стыда в своей дешевой кофточке Sela, вдыхая аромат легкости вместе с запахом их духов.
Оказалось, добиться невозможного не сложно. Когда расстояние между тобой и теми, кому всегда тяжело, стало достаточно большим. А ненавидимые ими поклонники легкой жизни дали тебе парочку дельных советов.
Здорово, что приходишь меня навестить.
Так много сбылось у нас, да? Даже детские фантазии (когда классную музыку в принципе было не достать), чтоб можно было послушать любую и в любой момент. Вот уж где настоящее волшебство…
А если еще раньше, какие у людей были мечты?
О чем мечтал мой отец, когда в один миг жизнь перенесла его из университетской жизни в холод мордовских лесов?
Может, о том, как любимая встречает на крыльце словами: «Меня тянет на сладкое, наверное, девочка».
И о том, как вглядываться в сморщенное личико, удивляясь тому, что дочь это так иначе, чем сын.
Скоро весна. Откроются веранды, на которых я буду засиживаться допоздна. Весенними вечерами даже городская прохлада приносит запах мшистых елей, утонувших корнями в прибрежной воде. Как от крови, от него тихонечко солонеет во рту.
Пахнет ли холод, папа?
Спасибо, что мечтал.